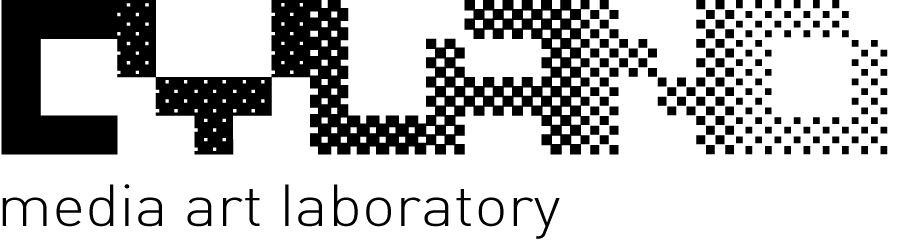Автор: Залялетдинова Алина, бакалавр по направлению подготовки “Культурные исследования” Школы перспективных исследований (SAS), ТюмГУ
Эссе подготовлено в рамках программы стажировок CYLAND
Современное искусство бросает вызов классическому музейному подходу хранения арт-объектов, заставляя его эволюционировать. В связи с этим, многие мировые музеи и арт-архивы обращаются к концептуальному хранению, которое рассматривает в качестве единицы архивного хранения не только сам объект, но и его концепцию. Хранение концепции означает, что публика увидит работу, прежде всего, идейно. В свою очередь, идея арт-объекта плотно переплетена с намерением художника и извечным вопросом «Что же хотел сказать автор?». Это открывает для потенциального хранителя как огромный простор возможностей, так и череду проблем. В особенности это касается случаев, когда художника уже нет в живых. При таких обстоятельствах концептуальное хранение заведомо реализуется с огромным трудом (конечно, если только автор каким-то чудом не оставил после себя детальное описание своей работы и соответствующую инструкцию по хранению). К счастью, помимо авторского взгляда существуют и другие факторы, задающие направление концепции арт-объекта. Об этих факторах, методах и мировой практике концептуального хранения мы и поговорим в этой статье.
Почему традиционное музейное хранение перестает быть универсальным решением для всех арт-объектов?
Стоит кратко пересказать причины, по которым классическое музейное хранение становится все более и более проблематичным.
Во-первых, современное искусство ставит перед собой задачу изменения норм традиционного искусства и это подразумевает использование новых форм, инструментов и, конечно же, материалов. С начала шестидесятых годов художники начали пересматривать роль предмета искусства как бессмертной реликвии из-за чего их работы стали плохо поддаваться традиционному методу музейного хранения. Так, Леди Гага позаимствовала идею своего знаменитого мясного платья у канадской концептуальной художницы Яны Стербак. По очевидным причинам ее «Ванитас: Мясное Платье для Анорексички-Альбиноски» трудно представить в качестве классической единицы музейного хранения.

Во-вторых, многие жанры современного искусства (к примеру, перформансы и инсталляции) напрямую связаны со временем и обстоятельствами своего создания. Консервации физической части/основы произведения, как правило, недостаточно для сохранения его контекстуальных связей/сайт-специфичности. Более того, значение и восприятие произведения может многократно меняться с момента его первого экспонирования/показа. Стоит упомянуть инсталляцию Марианны Виеро «Внутреннее садоводство», которая пересоздавалась художницей четыре раза. С каждой новой версией кардинально менялись используемые автором формы предметов и их местоположение. Художница сообщала, что все четыре раза решала разные художественные задачи и в итоге потеряла интерес к своему арт-объекту.

Авторский замысел
Современные консерваторы пользуются разными инструментами для медиации авторских смыслов, и самым частым является вышеупомянутое интервьюирование художника. Некоммерческая американская организация «Голоса в современном искусстве» (VoCA) обучает работников музея проведению интервью с художниками. Их партнер «Международная сеть по сохранению современного искусства» (INCCA) поддерживает коллаборативный подход между хранителем и художником. У этого подхода есть весомое преимущество, так как он позволяет музею донести смысл арт-объекта таким, каким его хотел передать сам художник. Тем не менее, интервьюирование при всем своем удобстве, не является идеальным решением сохранения концепции. Гленн Уортон (работала в МоМА), в статье “Намерение художника и сохранение современного искусства”, рассказывает о многолетней практике сбора и изучения предпочтений художников. Она заметила, что задаваемые ею вопросы во-многом влияли на ответ художника: “С тех пор, как они создали работу, часто проходило много времени, а это означало, что я просила их вспомнить прошлые задумки дабы они прокомментировали текущую ситуацию… Иногда я понимала, что их ответы во многом относились к их нынешним проблемам, таким как карьерный рост и будущая репутация… Это осознание присутствия дополнительных идеологий и мое собственное влияние на сказанное еще больше усложнило мои ссылки на их комментарии как на выражение первоначального художественного намерения”. Уортон также высказывает опасение на счет того, что художник будет больше озабочен изначальной идеей своего проекта, чем его финальной реализацией (Уортон 2015, 2).
Анализ самого арт-объекта
Уильям Курц Вимсат и Монро Бердсли в эссе “Преднамеренная Ошибка” (1946), доказывали, что самый лучший способ оценки произведения искусства должен быть осуществлен через прямой анализ предмета. По их мнению, пространные описания авторских намерений только отвлекают от самой работы (Вимсат и Бердсли 1946). С одной стороны, свобода от категории авторского замысла предоставляет музею или архиву больше пространства для интерпретации. С другой — данный подход ставит ребром вопрос о границах, принципах и этических нормах в работе с произведением искусства. Чтобы избежать конфликта интерпретаций, вытекающего из различных социальных и профессиональных позиций художника и хранителя, необходимо сфокусироваться на формальных характеристиках произведения и четко очертить те методологические установки, на основе которых производится его контекстуализация. Анализ самой работы несомненно является важной частью сохранения концепции, так как определяет параметры его будущего экспонирования и восприятия публикой.
Определение позиции, с которой интерпретируется арт-объект, является важным в тех случаях, когда авторский замысел вступает в разногласия с формой его публичной демонстрации.. Например, работа известного голландского художника-концептуалиста Яна Диббетса «Самый короткий день в музее Ван Аббе» была предоставлена художником в виде слайдов, которые должны были проецироваться на стене. Идея работы состояла в демонстрации смены суток, что было недостижимо на практике: работа была настолько растянутой во времени, что зритель уходил, не дождавшись задуманных Диббетсом переходов. Чтобы выйти из ситуации, Музей попросил художника создать дополнительный коллаж, который был размещен параллельно проекции (Стигтер 2016, 12). Было решено, что в такой форме экспонирования проект не потеряет своей изначальной идеи, поскольку фотоколлаж по-прежнему будет отражать концепцию изменчивости.

Внешний контекст
Наконец, существует и третий фактор важный для понимания концепции — контекст. Технические инновации, политические события или изменение культурного климата оказывают большое влияние на производство и последующее восприятие работы. Вопрос о методах контекстуального прочтения произведения является центральным для работы консерватора ? Примером работы, требующей обязательной концептуализации, является работа “Беларусь” Артема Лоскутова, написанная при помощи дубинки.

Специалист в области компьютерных технологий Джон Маэда предлагает снимать на видео реакцию посетителей, взаимодействующих с работами, и показывать эти видео при последующем экспонировании работы(Уортон 2015, 6): то, как посетители реагируют на арт-объект, является прямой демонстрацией диалога между художником и социумом.
Что из себя представляет Российский опыт концептуального хранения
Концептуальное хранение является достаточно новым и все еще формирующимся подходом в музейной практике. В России такой тип хранения существует в Пушкинском музее, собирающим в том числе цифровое искусство. Музей проводит публичные мероприятия, благодаря которым художник может прокомментировать собственные работы. Также при процессе передачи работы в коллекцию, между администрацией и автором заключается договор о том, что сложносоставные арт-объекты должны иметь концептуальное описание. Художник может предоставить дополнительную информацию, включающую в себя первоначальные эскизы проекта.
Другим примером является музей современного искусства “Гараж”, который сохраняет билеты, афиши и прочие бумажные эфемериды как свидетельства институциональной жизни произведения искусства
Библиография
Stigter, Sanneke. “Between concept and material. Working with conceptual art: a conservator’s testimony.” (2016)./ Стигтер, Саннеке. «Между концепцией и материалом. Работа с концептуальным искусством: свидетельство консерватора». (2016).
Wharton, Glenn. “Artist intention and the conservation of contemporary art.” AIC Objects Specialty Group Postprints 22 (2015): 1-12./Уортон, Гленн. «Замысел художника и сохранение современного искусства». Отпечатки специальной группы объектов AIC 22 (2015): 1-12.
Beardsley M., Wimsatt W. K. The intentional fallacy //Literary Theory: An Anthology. – 1946. – С. 30-35./Бердсли М., Вимсатт В. К. Умышленное заблуждение // Теория литературы: Антология. – 1946. – С. 30-35.